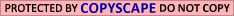О возможности получить живой организм вне живой материи.
Такое представление действительно сейчас существует в науке. Вопрос о логически-исторической аналогии гетерогенеза с этими построениями, в частности с perpetuum mobile, часто возникает в научной мысли и высказывается в литературе. Один из выдающихся современных биологов- мыслителей Леб ставит даже перед биологией дилемму: «Либо приготовить искусственно организмы из мертвой материи, либо, если это невозможно, найти, почему эта задача неразрешима».
Но эта задача может быть так поставлена только при условии, если биология ее может решать в области свойственных ей явлений. Но возможно, что она лежит вне области ее наблюдений, как лежат вне области явлений химии процессы распадения атомов или исчезновения материи. Для этого методы и явления недостаточны. Также могут быть недостаточны для гетерогенеза методы и явления биологии.
Это не есть результат недостаточного нашего знания — это есть различие по существу.
Но предполагаемое сведение задачи гетерогенеза к этой категории представлений заключает еще одну неясность, требующую разрешения. Средиэтих «невозможностей» соединены вместе неразрешимые задачи разного порядка. Например, такие нерешаемые на плоскости геометрические задачи, как трисекция угла и квадратура круга в пространстве трех измерений могут быть доказаны, так как в этом случае мы можем охватить все условия, которые необходимы для этих построений.
Однако уже для задачи perpetuum mobile в нашей реальной среде, для философского камня и т. п. вопрос является гораздо более сложным, и мы знаем, что второй закон термодинамики, тесно связанный с решением задачи о perpetuum mobile, не имеет того места, какое имеет в косной природе, в области явлений жизни. Мы можем доказать невозможность perpetuum mobile в механизмах нашей реальной среды не абсолютно, но лишь в пределах наших наблюдений.
Как бы то ни было, независимо от уровня анализа, идея вечности жизни непрерывно проникала и проникает научную мысль. Она вошла в нее из древнейших религиозных верований и построений Мира.
Всякая религия совершенно неизбежно сталкивается с явлениями жизни. Она всегда представляет концепцию Мира, приноровленную к человеку. Живое и жизнь в ее проявлениях занимает в ней центральное место, так как она пытается разрешить загадку жизни или дать ей то или иное, понятное человеку объяснение.
Понятие о вечности жизни поэтому всегда содержится во всяком религиозном представлении, если мы расширим это понятие и перенесем его за область той реальной жизни — животных и растений, которая изучается в биологии. В целом ряде религий эта реальная жизнь чрезвычайно расширена и потеряла всякую связь с той жизнью, которая как реальное явление слуя^ит объектом научного изучения. В этих случаях вопрос о вечности жизни в научном смысле не может иметь места в религиозных верованиях, он заменяется представлением о бренности этой жизни и неизбежной замене ее другой, вне земного содержания, жизнью. Но все же и здесь имеется представление о вечности чего-то существенного для жизни, которое таким образом так или иначе является проявлением вечного, отличного от косной материи. Строй этих идей, являясь атмосферой мысли ученого, наблюдающего реальную жизнь, получает для него иное содержание и приводит его к таким выводам, которые во многих случаях без этого религиозного понимания не проявлялись бы.
Обращаясь к великим религиозным созданиям человечества, мы видим в тех из них, которые были когда-либо живыми для ученых искателей, два течения, с этой точки зрения совершенно различные по своим последствиям.
По своей основе религии, связанные с юдаизмом — христианство и мусульманство, не давали простора развитию этих идей. Им мало было места и среди концепций древнеэллинского пантеизма. Гораздо шире была возможность их развития в древних индусских и персидских религиозных построениях — но как раз эти построения в наименьшей степени отразились в созданиях современной науки человечества, в течение почти двух тысячелетий связанных с религиозной средой христианства или юдаизма и отчасти мусульманства.
На Дальнем Востоке, в древней Индии (в буддизме), как наследнике других более древних религиозных достижений, выросло сознание человечества, для которого логическая неизбежность начала и конца природного, явления не существует. Здесь достигнуто более глубокое представление о времени, чем то, которое существует в среде средиземноморской и связанной с ней современной американско-европейской цивилизации. Благодаря буддизму с индусским центром культуры тесно связан Дальний Восток и Средняя Азия. Для всех этих миллионов людей вечность реальной жизни также приемлема логически, как для нас приемлема вечность материи и энергии, вечность Космоса.
Здесь гораздо больше совпадений привычного мышления «здравого смысла» с новыми течениями и уклонами научных исканий, чем в среде, связанной с выросшими на юдаизме религиозными субстратами человеческой личности.
В истории этих идеальных построений только в отдельных немногих случаях, может быть, даже как отражение глубоких достижений индийских мыслителей, видим мы подходы к этим понятиям. Одной из наиболее глубоких форм идеи вечности жизни являются учения, близкие к шиитским исмаелитам в X в., связанные не столько с мусульманством, сколько с мистическими философскими идеями неоплатонизма (может быть, Плотина?). Очень возможно, что в этих учениях мы видим своеобразную смесь религиозно-философских исканий, связанных, с одной стороны, с религией древних персов (зороастризм), с другой — с греческой философией. «Мировая душа» этих учений, извека существующая, совпадает с тем, что мы называем жизнью. Проявлением мировой души является все живое и оно вечно постольку же, поскольку вечна мировая душа. Начала его не было.
Но, в общем, эти религиозные построения стояли далеко от той среды, которая создавала нашу науку, которая генетически теснейшим образом связана с средиземноморским очагом цивилизации.
Здесь вопрос о «начале земной жизни» был реальным построением религиозного сознания, с ним должен был считаться всякий ученый, и, отходя от него, он тем самым становился в разрез с господствующими взглядами, сталкивался с окружавшей его умственной средой.
Тем не менее мы имеем здесь явные стремления и идеи об отсутствии начала в той жизни, которую мы видим кругом нас, о ее вечности.
Очевидно, эти идеи могли возникнуть только тогда, когда стало ясным, что гетерогенез невозможен.
Идеи натурфилософов XV — XVII столетий. Натуралисты XVII в. Реди и его ближайшие ученики и последователи, особенно Валлисниери, принимая принцип omne vivum е vivo, были убеждены и в вечности жизни. Но, основываясь в своей концепции мироздания на молодости Мира, проникавшей все представления людей, стоящих на почве христианства XVII столетия, Реди не мог делать выводов из идеи о вечности жизни. Она приобрела большее значение только тогда, когда Мир был бесконечно раздвинут и во времени и в пространстве, но при этом раздвижении, как мы увидим дальше, исчезало, казалось, значение живого во Вселенной». (Ф. 518, on. 1, д. 49, крымский текст, лл. 68 — 71.)
Далее автор пишет: «Это различие останется незыблемым, даже если в философской области ученый будет придерживаться той или иной формы гилозоистических представлений, хотя бы в той форме, в какой все сущее обладало жизнью для Лейбница и его последователей [1]*.
В истории науки мы имеем яркий пример этого явления, например тогда, когда чисто философское создание — монады — Лейбница приняли форму, удобную для научной работы в знаменитой теории органических молекул Бюффона[2]*. Я не буду здесь касаться вопроса, правильно или неправильно понимали монады те, которые исходили из этих идей или находились под их влиянием. Они переделывали их в формы, удобные для научной работы [3]*. По существу они подходили к тому же представлению о проникновении жизнью и живого и мертвого, какое проникало мировоззрение Лейбница.
Но как только эти абстрактные создания человеческого мышления переносились на реальную картину природы, с которой имел дело натуралист, — реальная картина не менялась.
Последователь Лейбница или Бюффона — точно так же, как и ученый, чуждый представлений о проникновении жизнью всей природы, одинаково не встречали в научной повседневной работе никаких затруднений отличать живое от мертвого, как не встречаем этого и мы.
Существует множество других философских построений того же характера, как, например, представление Фехнера о космоорганическом состоянии материи, распадением которой создается органическая (живое вещество) и неорганическая. Эти спекуляции стоят сейчас вне научного кругозора, так как только тогда, когда ими воспользуются для научной работы, для научной гипотезы, они получат для нас значение, как получали временами идеи Лейбница. Идеи Фехнера пока научно бесплодны». (Ф. 518, on. 1, д. 49, лл. 76 — 77).
Далее автор пишет: «Мы находим ее проявления в древних религиях и отголоски такого перехода всего живого в мертвое и обратно — зарождение живого из мертвого — проникают всю мистическую поэзию Востока и Запада. С одной стороны, этим путем нами более ярко проявляется бренность всего живого, и человеческое чувство и мысль стремятся найти что-то ценное вне земного. С другой, этим путем можно подойти и иногда подходили к чувству единства Природы и пантеистическому или гилозоистическому о ней представлению.
[1]* Прав Виндельбанд, называющий учение Лейбница «абсолютным витализмом» (Windelband W. Die Geschichten den neueren Philosophie, Bd 1. 2 Aufl. Leipzig, 1899, S. 471).
[2]* Идеи о том, что «вечные органические молекулы» строят организмы и другие индивидуализированные тела природы, в XVIII в. независимо от Бюффона высказывались другими. Они получили ясную форму в середине XVIII в. и, может быть, впервые высказаны Ля Метри. Их высказывали Дидро, Мопертюи, а Бюффон систематизировал эту идею (Windelband W. Die Geschichten den neuren Philosophie. 2 Aufl. Leipzig, 1899, Bd 1, S. 388).
[3]* Дюбуа Реймон (Reymond E. Du Bois. Reden. Leipzig, Bd 1, 1886, S. 43) непосредственно заимствовал представления Бюффона.