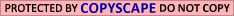Экология языка и речи.
Принято считать, что экология — это прежде всего «наука об отношениях растительных и животных организмов друг к другу и к окружающей их среде. Или, по Э. Геккелю — раздел биологии, занимающийся проблемами этих взаимоотношений.
Но не случайно само это слово — экология — образованное от слияния греческих oikos (дом) и logos (учение) дало возможность и основания академику Д. С. Лихачеву создать работу об экологии культуры, Льву Скворцову — об экологии слова, Ф. Данешу и С. Чмейрковой — об экологии языка малого народа, ученым Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина — разработать направление «Проблемы экологии русского языка». Ибо «учение о доме» по самому своему определению не может быть сужено только до науки биологического цикла; в обязательном порядке это учение должно вбирать в себя и проблемы гуманитарного плана. В противном случае это будет учение не о доме, а о строении, постройке, сооружении.
Любой дом состоит не только из стен, населяющих его существ и окружающей его природы; его жизнестойкость и жизнеспособность как полноценной системы материально-нравственного порядка во многом зависит и от господствующих в нем нематериальных явлений — отношений, духовности, языка и т.д.
Сейчас же, говоря об этике и морали применительно к экологии (экологической этике, экологическим ценностям), все же в первую очередь подразумевают под этим отношение к природе и человеку (как части природы) как к материальным категориям. Но в то же время в русском обиходном языке уже укоренились устойчивые словосочетания «экологически чистый продукт», «здоровая экология», «плохая экология» и т.д. При этом слово «экология» миллионами граждан воспринимается сегодня как своего рода синоним слов «чистота», «незагрязненность».
Рафинированный ученый (как эколог, так и лингвист) сочтет эти выражения некорректными, ущербными. Но народ — творец того языка, который ему, народу, понятен и доступен. Это вовсе не значит, что народ всегда прав. Нередко он ошибается даже на всенародных выборах. Но это значит, что все чаще мелькающий термин «экология языка» имеет полное право на жизнь.
Академик С. С. Шварц на конференции по экологии заявил, что может навскидку дать сотню определений понятию «экология»; может быть, так оно и есть, поэтому дело, на мой взгляд, не в термине, дело — в проблеме, в причине, которая, как ее ни назови, настоятельно требует осмысления и решения. Уж точно — хотя бы внимания. Потому что если сейчас не думать об экологии языка, то в скором времени придется думать о языке экологии, равно как и всех прочих наук, и не только наук.
В своем «Слове при получении Большой Ломоносовской медали Российской академии наук» А. И. Солженицын об одной из таких причин сказал: «Процесс эволюции всякого языка течет постоянно: что-то постепенно теряется, что-то приобретается. Но крупная общественная революция приводит в ненормальное, болезненное сотрясение также и весь язык, в опасных пределах.
Так и русский язык от потрясений XX века — болезненно покорежился, испытал коррозию, быстро оскудел, сузился потерею своих неповторимых красок и соков, своей гибкости и глубины.
А с разложения языка начинается и им сопровождается разложение культуры. Это — и символичное, и духовно опаснейшее повреждение».
Надо ли напоминать о том, сколько общественных революций произошло в России на протяжении только последних десятилетий, поскольку революция — не обязательно смена строя (как Великая французская, буржуазная или пролетарская социалистическая), но и вообще — резкий скачок, переворот. В результате — обеднение языка (одновременно за счет как потери многих родных лексических форм, так и за счет чуждых заимствований, не всегда уместных и удачных), усреднение и извращение речи, подмена понятий.
Сами по себе языковые реформы 1918 и 1956 годов отнюдь не бесспорны, а если к ним добавить еще и культурный упадок, вызванный оттоком из России интеллигенции (несколько волн эмиграции), и активное влияние на два последних поколения языка телесериалов, «ложной литературы», части средств массовой информации, то станет ясно, что через два десятилетия произведения Достоевского, Толстого и Чехова пониманию многих будут просто недоступны.
Франция дала пример революций, и этому примеру затем последовали другие, в частности и в России; но ведь Франция дала и пример закона о сохранении языка — ему, этому примеру, в России, увы, пока не последовали. А ведь это закон об экологии языка. Он чрезвычайно прост и очень похож на элементарные, именно природные законы: если хочешь сохраниться, нельзя, чтобы в единицу времени на единице пространства звучало больше чужих слов, чем родных, и было больше иноземных букв, чем своих.
Пока же, зайдя в любой московский магазин, покупатель вправе требовать переводчика, поскольку, несмотря на все постановления, значительная часть упаковок изобилует иностранными надписями и целыми инструкциями. К этому надо добавить рекламные щиты, фильмы, обложки и т.д.
Хочу быть понятым правильно: речь не о каком-либо запрете, а о том, что, по словам Парацельса, во всем важна доза, мера. Нормальная доза лекарства лечит, повышенная — может убить. Никто не призывает калоши называть «мокроступами», а фортепиано — «тихогромом», — через это уже прошли. Но явное неуважение к языку и к себе (неуважение себя), когда в речь внедряются иностранные слова, имеющие русские аналоги.
По этому поводу в упоминавшемся уже «Слове...» А. И. Солженицын говорит: «Нельзя считать надежду потерянной: например, в послепетровскую, в елизаветинскую пору письменный язык был затоплен обилием немецко-голландских, также безнадобных, заимствований — а со временем они схлынули как пена. Но тогда был здоров, невредим сам стержень нашего живого языка — не как сегодня».
В том-то и дело, что тогда был заполонен письменный язык, в то время как стержень живого языка был здоров. Сейчас же ситуация такова, что и письменный язык нивелируется, и живой угнетается. Причин несколько. Кроме перечисленных выше это — сокращение времени изучения русского языка в учебных заведениях; низкое качество самого преподавания; отрыв в школьной программе русского языка от русской литературы (как будто ничему не научил отрицательный опыт отрыва литературы от истории, когда были расформированы историко-филологические факультеты и в результате историки не знали, какие произведения были созданы в период Отечественной войны 1812 года, а филологи путались в исторических событиях, случившихся на протяжении жизни Пушкина).
Еще десять-пятнадцать лет назад работала воспитательно-образовательная схема «семья и школа».
В наше время последовательность должна быть обратная — «школа и семья», так как:
- во-первых, в школе ученик проводит намного больше времени, чем дома,
- во-вторых, социально-экономические условия таковы, что взрослые члены семьи, занятые добыванием средств (не секрет, что половина населения работает дополнительно по совместительству или сразу в нескольких фирмах) не в состоянии уделить ребенку кроме бытового внимания еще и внимание образовательное, культурное, досуговое.
В то же самое время основная информация, потребляемая ребенком от рождения до 8 лет, — языковая, то есть самая сложная: не о названии вещей и явлений, а о соотношении вещи и ее имени. Нами сейчас забыта простая истина: язык не только определяет явление или помогает узнать информацию; ОН САМ есть информация. Поэтому небывалая потеря лексических запасов сейчас, в конце XX века — одновременно и потеря информационных кодов.
Словарь-справочник по социологии и политологии дает следующее определение: «Язык — важнейшее средство человеческого общения, неразрывно связанное с мышлением и представляющее собой хранилище духовных ценностей и систему коммуникации, осуществляемой с помощью звуков и символов...».
Не стану прибегать к расширительному толкованию, но непременно надо обратить внимание на то, что имеет непосредственное отношение к предмету разговора:
- во-первых, что язык неразрывно связан с мышлением (следовательно, изменения в языке — суть и изменения в мышлении!);
- во-вторых, язык — хранилище духовных ценностей. Не способ передачи, заметим, а — хранилище.
Иной вопрос — каким образом и что именно хранится в закромах языка и вообще — в языковом пространстве. Один лишь лексико-семантический анализ речи как метод изучения языковой личности уже доказывает, что существует языковое сознание. Интересно, исторически доказательно пишет о конкретных примерах его существования и член-корреспондент РАН, ученый секретарь Отделения языка и литературы РАН Ю. Л. Воротников (в статье «Более лучше, более веселее»).
Иногда это сознание не выражено в конкретных материальных формах, иногда же оно явлено как своеобразный памятник мысли, пусть и не всегда адекватно воспринимаемый. Например, всем носителям языка известно четверостишие про божью коровку и обращенное к ней пожелание принести хлеба — «черного иль белого, только не горелого». Казалось бы, игровое четверостишие направлено на детскую аудиторию с целью забавы. Но много ли известно бесполезных забав в языке вообще? Мало. Многие ли «забавы» выдерживают вековые испытания временем, приспосабливаясь к условиям (вдруг появляются в четверостишии слова «котлетки», «конфетки» и т.д.), но не меняя ключевых слов? А в данном случае они, эти слова — «горелый хлеб». Конечно, метафора — для лучшего запоминания детским умом. Почему детским? Потому что полученное в детстве знание хранится всю оставшуюся жизнь. А разве это — про «горелый хлеб» — знание? Это — знание; иное дело, что оно пока не расшифровано — надобности не было. При необходимости метафора «горелый хлеб» будет человеком раскрыта и станет ясно, что речь не о пожаре, а о черной тле, которая нападает на злаковый колос в период молочного созревания зерен; колос со стороны напоминает обуглившийся. Божья коровка имеет способность изгонять тлю. Следовательно, за детским четверостишием крылся вполне взрослый и полезный агрономический рецепт.
Главное — понять его? На мой взгляд, главное — сохранить хотя бы до тех пор, когда наступит понимание. А то ведь можем спустя 100 лет стать умными, понимающими, а вот что именно нам расшифровывать из народной и из языковой мудрости — не сохраним, растеряем по пути, потому что на первый взгляд вся эта «языковая рухлядь» не представляет особой ценности.
Но, как уже говорилось, иногда проявление языкового сознания может существовать и в еще менее выраженных, менее заметных формах. Например, в форме припева «люли». Почему не «тра-та»? Потому, что засыпает ребенок именно под «люли». Об удивительном успокаивающем воздействии звуков «л» и «и» на организм ученые задумались давно. Кстати, еще в 1883 году академик Потебня (а затем и Ветухов, и Шейн) пришел к выводу, что не только славяне поют «люли», но и в санскрите (Индия) колыбельная песнь звучит похоже — «лолати», и в литовском — «лулети».
А потешек, пестушек, прибауток, колыбельных в детском фольклоре — сотни. У каждого этноса — свои; и «питание» именно таким языком и в таком объеме во многом равноценно обычному питанию — только с разными целями. Наверное, в данном случае тоже применим один из законов Барри Коммонера — «все связано со всем».
Кто знает, может быть, именно звуковая волна, вызываемая сочетанием именно таких звуков в том или ином слове, и есть часть информации на физиологическом, а не на смысловом уровне. Я пишу о том, что подсказывает мне мой писательский, филологический ум; физики и биологи оценят это более профессионально. Вопрос — когда?
Живая речь поддерживается письменной.
И здесь — еще один вопрос: насколько этот процесс взаимоблагоприятен? Здесь, хотя и с известной долей условности, можно провести сравнение с процессами, происходящими в техносфере, когда продукты новых технологий внедряются в большем количестве, чем биосфера может переработать; в результате — дисбаланс и отравление. Да, язык не может развиваться только по пути круговорота; но и искусственно создавать «отходы» (лексические, стилистические, морфологические) по крайней мере нерачительно — источник может иссякнуть.
Одна из причин нивелирования письменного языка кроется в редакторско-издательской сфере. Старая, классическая редакторская школа в России практически разрушена и уничтожена. Современный же редактор, заботясь о «доходчивости» произведения, нередко превращает его в пресный усредненный текст, коих сотни и сотни.
Видимо, именно подобное отношение к языку позволило серьезному издательству «Эксмо» выпустить в свет сокращенный вариант знаменитого «Толкового словаря» В. И. Даля:
- во-первых, в одном томе вместо привычных четырех;
- во-вторых, с произвольными, ничем не обоснованными выкидками;
- в-третьих, с полным игнорированием самого принципа расположения слов. Как можно определить, какие слова читателю нужны, а от каких его, читателя, можно избавить (из 200 тысяч слов оставлено всего 20 тысяч, то есть десятая часть!)? С таким же успехом могли бы сократить и таблицу умножения — там ведь тоже есть «резервы»: дублируются 2x5 и 5x2 и т.д.
Если мы о резком уходе воды из озера говорим как об экологической катастрофе, разве не вправе так же характеризовать и уход значительного количества слов из океана языка?
Связь состояния языка, речи и состояния природы — только на первый взгляд внешняя. На самом же деле она имеет достаточно глубокие причинно-следственные связи. Общество, пренебрегающее языковой культурой, со временем деградирует; следовательно, оно в меньшей степени (даже на уровне понимания информации о происходящем) реагирует на экологическую ситуацию.
Иными словами, человек, сужающий свое гуманитарное культурное пространство, в силу уже одного этого с беспечностью относится и к прочим проявлениям общей культуры, и вообще к ее сохранению — будь то сохранение ландшафта или чистоты рек. Если такой человек вполне допускает в язык и в свою речь сленг, мат, брань, то отчего же ему не допустить подобного загрязнения окружающей среды и более материальными отходами?
Проблема усугубляется очередными разговорами о реформе языка, суть которой не может не вызывать возражений, ибо в данном случае не человека пытаются поднять до уровня владения языком, а наоборот, язык в очередной раз стараются подстроить под существующий сейчас уровень. Чрезвычайно опасная тенденция.
Дело не в упразднении «дефиса» и прочих «частностях», хотя и они в языке важны; дело в тенденции, которую можно определить одним словом — «небрежение».
Полтора века назад Н. В. Гоголь заметил: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи». Сейчас ситуация такова, что вещей уже больше, чем названий.
Проблема экологии языка и речи не может быть надуманной хотя бы по той простой причине, что для каждого из нас язык — это часть внешней среды; часть, в значительной мере обеспечивающая и поддерживающая наше существование.
В свое время И. М. Сеченов сказал, что в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него. А язык (даже только как звучание, как звуковые колебания) очень активно влияет уже физиологически (а еще есть смысловое, психологическое влияние). Давно подмечены и обоснованы взаимосвязь языка и определенных черт характера носителей этого языка («замкнутые» и «открытые» системы и т.д.). В этом контексте есть смысл еще раз задуматься над библейской информацией о том, что каждому народу язык был дан богом. И почему-то даже в вавилонские времена народы, наказанные богом, предпочли разойтись, унося с собою свои наречия, а не изобретать «эсперанто».
Иными словами, можно говорить о языке как о своего рода биологической программе. А если это так, то и нынешняя ухудшающаяся ситуация в языке способна привести к нарушению этой программы. В качестве примера можно привести хотя бы некоторые народы Крайнего Севера, для которых смерть языка оказалась равносильной исчезновению их этнической культуры и, как следствие, исчезновению самих народов как единства.
В «Социолингвистике и социологии языка» Н. Б. Бахтин и Е. В. Головко по этому поводу сообщают также о «Красной книге языков народов России» (в первую очередь в связи с языковыми меньшинствами) и о процессах языковой смерти.
Подобные же проблемы в виде докладов об экологии языка поднимались и на конференции «Актуальные проблемы филологии», в которой принимали участие ученые из МГУ, МГУП, ИИЯ, РАН, Гетевского центра и др.
Ученые-лингвисты давно пришли к выводу, что, если не предпринять определенных мер, русский язык может быть подвержен опасной деформации. Одними из первых обратили на это конкретное внимание члены созданной профессором В. Г. Руделевым в Тамбове в 1975 году лингвистической школы, которая с 1991 года исследует целенаправленно именно вопросы экологии русского языка с целью восстановления его устойчивости. Известно, что учеными этой школы разработаны теории оппозиции и нейтрализации.
Иными словами, частью специалистов уровень опасности осознан; но это вовсе не означает, что ситуация находится под контролем, хотя правы те, кто, вослед за переводчиком Г. Крыловым считает, что «объем мусора в нашей речи (живой и письменной) достиг таких размеров, что тревога людей, не совсем глухих к языку, вполне обоснована. Экология языка — проблема не менее насущная, чем экология планеты...».
Под «мусором» в данном случае следует понимать не только неправильно^ употребление тех или иных оборотов (это дело частное), а в первую очередь — мощный пласт заимствований, использование «усеченного языка» средствами массовой информации, подмена художественного языка журналистским стилем в значительной части публикуемой ныне современной прозы, — все то, что приводит к глобальному угнетению самого языкового организма как по вертикали (этимология), так и по горизонтали (текущая лексика).
Речь не о трагедии языка — в известном смысле катастрофы нет; когда случается трагедия, тогда нет смысла говорить о профилактике.
О чем же тогда речь? О возможной потере устойчивости языка, к чему мы, россияне, увы, близки.
«Устойчивость языка»—термин в лингвистике не общепринятый; но, полагаю, он в обязательном порядке должен быть принят, наполнен и осознан по аналогии с экологическими терминами, например, «устойчивость ландшафта», «устойчивость экосистемы», о чем в словаре-справочнике В. В. Снакина «Экология и охрана природы» читаем: «Устойчивость экосистемы — способность экосистемы к реакциям, пропорциональным по величине силе воздействия, которые гасят эти воздействия... При превышении некоторой критической величины воздействия экосистема теряет устойчивость, возникают положительные обратные связи, которые могут привести к ее разрушению».
В языке происходят те же процессы, что доказано самим фактом исчезновения «малых» языков, потерявших устойчивость. Грозит ли это и русскому языку, имеющему древнюю и мощную традицию, и если грозит, то при каких условиях?
К сожалению, любой язык в этом смысле — не исключение, ибо он существует не сам по себе, а благодаря его носителям; и находится он в окружении иных языков, взаимопроникновение которых сегодня возможно, как никогда ранее благодаря электронным средствам массовой информации. Но при этом славянская лексика проникает в иные языки сейчас гораздо слабее, чем происходит обратный процесс.
Для обеспечения устойчивости языка требуется:
- во-первых, сохранение в нем в незыблемом состоянии его основы (корней, форм, словообразования и т.д.);
- во-вторых, поддерживание на определенном уровне лексического запаса;
- в-третьих, обеспечение живого (устного) языка не просто его адекватным письменным эквивалентом, а — более выверенным, чистым.
Если словообразование и словотворчество у нас, слава Богу, в значительной мере все еще происходит по традиционному типу, то с поддерживанием лексического запаса дело обстоит хуже.
И вовсе не только из-за иноязычного влияния, как многие считают, но и из-за собственных потерь. Так вот как раз сопряжение, неблагоприятное совпадение этих собственных потерь с процессом чужеземного внедрения и создает опасный крен. В самом деле, даже при нейтральном отношении к экспансии иностранных слов, но при полном неумении употреблять их к месту и в их прямом значении, разве не наносится двойной ущерб? Достаточно всего лишь увидеть в одной статье «римейк», «истеблишмент», «джэм-сэйшн», «авуар», «лизинг», «букфейр» и «промоушн», чтобы вспомнить тех же французов, которые тщательно следят за соотношением своего и чужого (слов, книг, фильмов, продуктов и т.д.).
В значительной же мере живой язык страдает из-за отрицательного влияния на него современного письменного языка, который многими потребителями печатной (равно как и аудио-) продукции воспринимается на уровне если не эталона, то — нормы.
Это явление приобретает характер эпидемии, поскольку неправильное ударение, несколько раз прозвучавшее с экрана телевизора, становится повсеместным (достаточно вспомнить горбачевское «нАчать»); на согласование вообще редко обращают внимание (яркий образец — речь Черномырдина); неточное словоупотребление — ежедневно, как и бранные слова (например, в выступлениях О. Кушанашвили).
При этом школа дикторов как таковая (та самая, которой славились отечественные радио и телевидение) упразднена вовсе.
Язык — не та область, в которой полностью должны отсутствовать запреты. Особенно если речь идет о публичном выступлении. Мы возмущаемся, когда слышим прилюдную брань, нас коробит сквернословие; но в то же время миллионы читателей потребляют заголовки и подписи подобного толка: «А теперь со всей этой фигней попробуем взлететь», «В дерьме броду нет», «Политик по большой нужде», «Доллар — падает, дерьмо — всплывает», «Семейный трехчлен» и т.д. (я не привожу в данном случае многочисленные обыгрывания откровенно ненормативной лексики).
Приведенные выше примеры можно считать средством экспрессии, каламбуром, иронией, фоновым знанием читателя, аффектированной оценкой, полисемией и т.д. И все это было бы уместным при определенном разборе в учебнике в качестве примеров; но разговор идет о массовой газете, самим языком, стилем влияющей на своего читателя, на его речь и в конечном итоге — на его отношение к языку (если так напечатано в газете — следовательно, так и можно, и нужно говорить).
Сами журналисты не желают понять, что свобода слова, свобода печати ничего общего не имеет со «свободой языка», которая большей частью пишущих понимается как разнузданность и вседозволенность. И в этом смысле вполне можно говорить о своего рода агрессии, результатом которой, как известно, являются всего два состояния: или ответная агрессия, или подчинение. Оба состояния для языка — отрицательны. А «охранительные» задачи не возлагает на себя ни одно значительное учреждение.
Как было сказано выше, у нас в России нет закона о языке. Более того, даже Совет по русскому языку при Президенте России был в 1997 году распущен. Может быть потому, что высшие государственные лица тоже не стесняются нести в массы такие образцы, как «наехать на фирму», «получить черный нал», «прекратить бардак» и т.д.?
Когда человеку (или обществу в целом) все равно, как о нем говорят, то в конечном итоге это приводит к безразличному отношению к тому, что о нем говорят и что ему говорят. Да, обилие криминального жаргона и сленга в СМИ само по себе не приводит к новым преступлениям, но оно приближает, делает привычным, бытовым наше представление о преступлении. Мнение, что слово виртуально, не имеет материальной силы — мнение глубоко ошибочное. Старая истина, что словом можно излечить и словом можно убить, не отвергнута: это подтвердит любой умный врач.
Но много ли у нас сейчас, в последние годы, изданий об этом самом нашем русском слове — даже для специалистов? Единицы. По сему поводу редактор одного из них, С. В. Светана-Толстая пишет: «Основная цель издания по культуре речи всегда «охранительная», можно сказать экологическая. Наблюдая речевую жизнь в современной окружающей среде, люди здравые и неравнодушные к судьбам родного языка всерьез озабочены: как бы не случилось так, что через год-другой нужно будет почти в буквальном смысле этих слов заняться «очисткой русского языка».
Никто не требует академизма в живом языке; если он и возможен, то лишь в определенной прослойке — профессиональной, сословной и т.д. Нам уже не до академизма. Социальные процессы в обществе, совмещенные не просто со сменой поколений, но и со сломом, с разрывом межпоколенческих связей (в культуре, общении, экономике, информационных технологиях) привели к разному пониманию и использованию одних и тех же понятий разными поколениями и социальными группами.
Эффект «выпавшего звена» в том и заключается, что оно невидимо, что не соседствующие поколения не в состоянии ощутить и оценить то, что исчезло; вот сам факт исчезновения — да, он может быть известным. Но информация о событии не заменяет участия в событии. Особенно в российской действительности. Это французы с момента возведения Эйфелевой башни и по сей день (!) спорят о том, оставить ее или снести. И будут спорить, пока сама она не упадет. А в России без лишних споров взорвали сотни храмов, чтобы спустя почти сто лет потомки хладнокровно взирали на очень похожие копии-поделки, — потому хладнокровно, что оригиналы были вне их биографии и судьбы.
Так и в языке. Чтобы понять, каким будет (каким может быть) будущий результат, необходимо анализировать не просто отдельную тенденцию или ситуацию, а совокупность факторов. Скажите на милость, кто это будет делать сейчас, во время рыночной экономики? Кто станет вкладывать деньги в прогноз состояния языка? Это ведь не прогноз состояния рынка сбыта или любой отрасли реального бизнеса? Любой, кто связан с наукой и образованием, понимает, о чем я говорю. И если в образование (прикладное) еще вкладывают деньги те, кто планирует вернуть их с прибылью в скором будущем, то фундаментальная наука, изначально, по определению не рассчитанная на быстрые сверхдоходы, почти обречена. России надо было получить Нобелевского лауреата, чтобы из его уст узнать о том, что один-единственный дом для депутатов стоит в четыре раза больше, чем все государственные годовые ассигнования на науку.
А тут — язык. Ну, говорим и говорим; пишем и пишем; в чем проблема? Понимаем же друг друга без переводчика.
Но ведь феномен утраты интереса к чтению — это отчасти и феномен утраты понимания сути того, о чем написано; для поколения нынешних двадцатилетних Евангелие — музейная редкость. Потому что уходит отношение к языку как к мудрости, как к миропониманию; в отсутствии этого на первое место выходит сюжет; но он — не мысль и не выражение мысли. Он — упрощение смысла.
В качестве подтверждения — интересная мысль Д. С. Лихачева, прозвучавшая в одной из самых последних его бесед: «Сейчас русский язык очень портится, да и не только русский, страдают и малые народы. Как будто происходит усыхание мозгов, люди становятся все более мелкими и в рассуждениях, и в поступках. Чтобы дать полную силу слову, необходимо лучше изучать классиков, составлять словари. С любой точки зрения одна из главных задач литературоведения и культуры в целом — составление языка Достоевского: подсчитано, что его словарь богаче, чем у любого из русских писателей».
Мне могут возразить, сказав, что у того же Д. С. Лихачева (в той же, кстати, беседе), есть слова о том, что «потребность в отделении от родной почвы заставляет обращаться к соседям — за помощью и за единением с ними». Но, во-первых, я не вижу никакой для носителей русского языка потребности подобного рода; скорее наоборот — русскоязычное население, оказавшееся за пределами России, стремится всеми силами вернуться в родные пенаты, к родной почве, в родную языковую среду. И, во-вторых, Д. С. Лихачев говорил все-таки о средневековье, а не о конце двадцатого века. А в наше время даже в диаспорах «создаются курсы по возрождению родного языка, активизируется их деятельность по пропаганде произведений литературы и искусства».
Говорят, что ритмы XX века требуют скорочтения. Но одно дело — схватывать быстроменяющуюся информацию сухого документа, и совсем иное — следовать методике медленного чтения произведения, предназначенного для размышления, прочувствования, сопоставления, — то есть, в конечном итоге, для формирования личности, а не только для получения сведений.
В этом случае нельзя без ощущения языка как хлеба произведения: «Лето Господне» Ивана Шмелева читают не для того, чтобы узнать о последовании празднования Пасхи: и «Войну и мир» Льва Толстого — не для того, чтобы иметь сведения об Отечественной войне 1812 года, — для этого существуют иные издания, коих десятки.
Современная прогностика, размышляя о развитии систем коммуникации и информации, пришла к выводу, что многообразие компьютеров в будущем изменят приоритеты наций. Это относится как раз к «информационному языку», которым сейчас является английский. Вероятно, со временем человечество, рано или поздно, вынуждено будет прийти к необходимости введения в обиход одного, общего, всем понятного средства общения. И это — положительный момент. Так, находясь в командировке, в чужой стране или в другом городе, мы без особого ущерба для здоровья пользуемся услугами гостиниц и общепита. Но, вернувшись домой, предпочитаем «не то, что у всех», — уютное старое кресло и привычную кухню. Признание наличия приоритетов не обязывает признавать их все вытесняющими и все заменяющими.
В данном случае важно не подменять понятия: одно дело — вписаться в век новых технологий, и совсем иное — сохранить и поддержать в состоянии устойчивости языковое пространство. Тем же США решить эту проблему гораздо проще (если она вообще существует), поскольку там не стоит так остро вопрос, терзающий сегодня Россию, а именно — этнический (тактически это, как правило, вопрос границ, а стратегически — и языка).
Как объем статьи, так, впрочем, и ее достаточно локальная цель (высказать точку зрения на некоторые факторы, угрожающие устойчивости языка, а заодно привлечь в очередной раз внимание к проблеме экологии русского языка) не дают возможности отдельно остановиться на лингвистико-социальном, семантическом, метафорическом, терминологическом и других аспектах.
Отдельного и очень серьезного осмысления требует язык массовой коммуникации — и семантика, и нарушение принципа адекватности языка, и экспрессия, и само по себе речевое действие; в этом же ряду — вопросы стиля новостной информации, использования аббревиатур, введения в отечественную журналистику таких явлений, как «дайджест» (концентрированное изложение) и «рирайт» (переписывание материала другим лицом) и т.д.
Не менее серьезный и интересный для исследования объект — русскоязычный Интернет, степень и результаты его воздействия на речь. Еще не так давно число подключений в России составляло всего около 13 на 1000 жителей — т.е. 35-е место в мире. Но ситуация очень быстро меняется в сторону увеличения подключений, а следовательно, и в сторону все усиливающегося влияния Всемирной сети. Например, по данным Rambler и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на сентябрь 2002 года в России было 8,8 миллиона пользователей Сети, т.е. больше, чем в Швеции или Мексике. Сейчас эта аудитория составляет уже 12 миллионов человек (т.е. 11 процентов взрослого населения России).
Социокультурные последствия всеобщей компьютеризации — еще одна тема, привлекающая к себе внимание...
Я обозначил лишь те проблемы, совокупность которых, на мой взгляд, доказывает необходимость целого ряда мер (в том числе и необходимость закона о языке, и четкую, жесткую схему применения этого закона; не косметических «реформ», а именно — ЗАКОНА!) в целях укрепления русского языка и как средства общения, и как национального символа, и как традиции.
Пока же в нашей стране язык предоставлен сам себе (как будто он не является предметом первейшей необходимости и как будто у нас есть запасной), и забота о русском языке в России почти нулевая. О ЯЗЫКЕ — о том уникальном явлении, без которого и вне которого мы попросту перестанем существовать, ибо не сможем понять друг друга, не сумеем общаться.